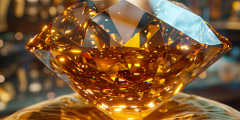Правильная позиция по отношению не только к старости, но и вообще ко всем невзгодам и тяжким испытаниям, подстерегающим человека в жизни, — задаваться вопросом «зачем мне это?», «какую я могу извлечь из этого для себя пользу?». Она почти всегда есть, если как следует подумать.
Именно это я и сделаю: как следует подумаю.
Начну с тезиса, который кажется мне неоспоримым. Не столь важны происходящие в твоей жизни события, сколько твое к ним отношение. Именно оно делает человека счастливым или несчастным. В свое время я дозрел до истины, которая некоторым баловням дается от природы: нужно фиксироваться не на том, что приводит в уныние, ослабляет дух, парализует волю, а на том, что делает тебя сильнее и выше, избавляет от страхов. Не сгибает, а распрямляет.
По своему складу я не являюсь прирожденным позитивистом — не в философском значении этого термина, а в обиходном: человеком, который умудряется даже в самом печальном обороте событий находить нечто ободряющее. В юности я, наоборот, был из нервных, мнительных и «накручивающих себя». Но я заставил себя научиться позитивному восприятию бытия. Потому что оно помогает справляться с бедами. Оно полезнее.
Это не во всех случаях возможно, ибо трагедия есть трагедия. Как отнесешься позитивно к потере того, кого любил? Однако далеко не все удары судьбы трагичны, большинство просто неприятны или всего лишь создают тебе проблемы. Однако неприятности не заслуживают терзаний, а проблемы возникают для того, чтобы их благополучно решить и тем самым сделать себя сильнее, а свою жизнь лучше.
Возьмем такую вроде бы общепризнанную пакость как наступление старости.
Она что-то хорошее у тебя отбирает, но и что-то хорошее приносит. Фиксироваться следует не на первом, а на втором.
Можно посмотреть на это так: ты лишаешься чего-то подержанного, чем ты уже напользовался, а приобретаешь нечто новое, «ненадёванное». Приглядываясь к своим обновам, скоро понимаешь, что за каждую из них пришлось заплатить чем-то из прежнего твоего гардероба. Нельзя же одновременно носить тюбетейку и шляпу, детские штанишки и брюки, модные остроносые штиблеты и удобные домашние тапочки. Нужно всего лишь убедить себя, что переодевание — к лучшему. Всякая среда требует соответствующего наряда. Зимой одеваются по-зимнему, а дома — не так, как на службе. Зачем мне тесный пиджак и галстук, если я больше не хожу на работу и могу вволю посидеть в кресле, у абажура?
Итак, следует отказаться от концепции старости как потери и взять за основу концепцию старости как обмена, причем выгодного.
Что ж, попробую.
Только сначала нужно написать еще вот о чем. Инструкция по правильному старению, вероятно, получится разной для мужчины и для женщины. Потому что страхи, сформированные воспитанием, различиями в физиологии, социальной повесткой, — страхи, которые управляли нами в жизни, отличаются. Мужчину приучают бояться слабости и неудачничества — а старость безусловно отнимает силы и снимает тебя с гонки за жизненным успехом. Женщину приучают держаться за молодость, внешнюю привлекательность — а старость наносит в эту болезненную точку безжалостный удар.
Предположу однако, что разница между нами меньше, чем может показаться. По мере затухания гормональной и общественной активности у человека постепенно ослабевает его половая идентичность. Из мужчины или женщины ты становишься просто человеком. Полный жизненный цикл homo sapiens своим контуром напоминает лимон. На входе, при рождении, мальчик и девочка начинают из одной точки — младенцами они неотличимы. Затем половое созревание и традиционное воспитание, а часто и образ жизни разводят мужчину и женщину в стороны, но в старости линии опять сближаются и в конце концов сходятся в одной точке, точке выхода. Душа покидает тело старого человека, и уже не столь важно, в штанах он когда-то ходил или в юбке. Может быть когда-нибудь, через много лет, в каком-нибудь невообразимом 2000 году, Тина перечитает мои записи, и они ей пригодятся.
Что ж, по порядку.
Конечно, перечень получится длинный, но не буду тратить время на мелочи вроде утраченной способности взбегать по лестнице или игры в бадминтон, которую мы с Тиной очень любили и которую мне запретили после инфаркта. Остановлюсь на двух утратах, которые явились самыми чувствительными и болезненными, способными вогнать в депрессию.
1. Я не могу больше участвовать в операциях, то есть полноценно работать.
В течение нескольких десятилетий эта деятельность составляла главный смысл моей жизни. При вопросе «кто я?» ответ был очевиден: «я — анестезиолог». Это был повод для самоуважения, ощущения своей значимости и полезности, даже незаменимости, поскольку Клобукова приглашали участвовать в самых сложных операциях, с которыми, считалось, другой анестезиолог не справится.
И вот я оказался не у дел. Я просто начальник анестезиологического центра. Эти обязанности могут выполнять и другие, да не хуже меня.
В период постинфарктной конвалесценции и реабилитации я очень этим мучился — как мучился бы оперный певец, потерявший голос, или футболист, оставшийся без ноги.
Но оказалось, что можно найти новый смысл жизни вместо утраченного.
Началось с того, что я вдруг понял: у меня освободился мозг. Операционный анестезиолог — рабочая лошадка, постоянно занятая практикой: конкретным пациентом, конкретной клинической ситуацией. У меня никогда не было возможности всерьез погрузиться в исследовательскую работу. А теперь она появилась и очень меня увлекает. Моя разработка криоанестезионного аппарата может произвести переворот во всей оперативной хирургии. Если раньше я помогал двумстам пациентам в год, то теперь смогу помочь сотням тысяч!
Не буду углубляться в подробности, они для трактата несущественны. Главное, что это правило универсально: всегда можно найти новый смысл твоего существования — лишь бы было желание жить не вегетативно, а осмысленно. И, как в моем случае, новый смысл экзистенции в старости может оказаться выше, чем раньше.
Про вторую потерю мне писать трудно, поскольку тема весьма интимна, а пережить этот удар было еще труднее. Я имею в виду невозможность физической любви. После инфаркта эта сюжетная линия в книге моей жизни завершилась. Ощущение поначалу было почти паническое. Я вроде как перестал быть мужчиной, а ведь у меня жена, молодая женщина.
Когда мы начинали встречаться с Тиной, я, пятидесятивосьмилетний дурак, был уверен, что я уже стар и что моя физиологическая активность осталась в далеком прошлом. В иллюзии касательно собственной сексуальности пребывала и Тина, но ей-то это простительно, она по молодости лет мало знала и жизнь, и самое себя. Мы намеревались жить «белым браком», яко голубь с голубицей. Но любовь порождает нежность, нежность требует касаний. Когда люди любят, им хочется трогать, гладить, обнимать друг друга. В общем, наш платонизм не продержался и недели.
Удар усугубился еще и своей резкостью. Обычно ведь гормональное угасание растягивается на долгие годы. Мой коллега, который несколькими годами старше, однажды, разоткровенничавшись, стал рассказывать, что в тридцать лет его организм требовал «разрядки» каждый день, в сорок пять хватало уже трех-четырех раз в неделю, в шестьдесят — одного, а потом позывы вовсе прекратились. «Это похоже на постепенное затухание колебаний маятника, всё очень плавно и естественно», — сказал он. Меня же будто взяли и оскопили. «Про это забудьте, — велел мой кардиолог. — А впрочем вам и не захочется».
И это первое, за что я уцепился. Бессексуальность старости менее унизительна и досадна, чем импотенция более раннего возраста. Потому что импотент хочет, но не может, а ты и не хочешь.
Второе, что облегчило мои терзания, это Тинино спокойствие. Она никогда не отличалась чувственностью и, кажется, не ощущает себя особенно ущемленной. Ей нравится засыпать в моих объятьях, на ходу полуобнимать меня или целовать, но это ведь никуда не делось. Хотя вообще-то, конечно, жениться следует на ровесницах, которые проходят через те же этапы гормональной эволюции, что и ты. Тогда обоим затухание чувственности дается легче.
Потом, когда первое потрясение прошло, в новом состоянии открылись и преимущества. Перестав быть самцом, я стал не меньше, чем был, а больше. Это меня не обеднило, а обогатило. Например, я иначе теперь вижу сотрудниц и вообще женщин. Перестал бессознательно регистрировать, красивые они или нет, да какая у них грудь, да стройны ли ноги и прочие несущественности. Автоматический мужской фильтр в глазах отключился, и я вижу в человеке главное: умный или глупый, добрый или злой, честный или лживый.
А еще я будто освободился от некоей зависимости — вроде никотиновой или алкогольной. Заходя вперед скажу, что «освобождение» — ключевое слово в науке старости. Ты постепенно освобождаешься от самых разных зависимостей, казалось, прилипших к тебе навечно. И в конце концов приходит окончательное освобождение — от жизни. Это и есть правильная смерть.
2. Болезни
Конечно, встречаются совершенно здоровые старики, но это скорее исключение. Разве что человек прожил всю жизнь на природе, где-нибудь в тайге или в горах, занимаясь ясным, полезным и не слишком изнурительным физическим трудом. Однако подавляющее большинство входят в завершающий этап жизни с двойным грузом: и старения, и накопившихся болезней, причем последние ускоряют и осложняют естественные геронтопроцессы.
Не являюсь исключением и я. Помимо кардио-проблемы, у меня наличествует весь традиционный букет мужчины на восьмом десятке: и простатит, и констипация, и артрит. Каждый из этих недугов чертовски неприятен, унизителен и депрессивен. До тех пор, пока не изменишь к ним отношения.
Здесь на помощь мне пришел Кант, которого болячки одолевали всю жизнь, с молодого возраста. Он дает мудрый совет: вылечить всё, что поддается лечению, а что не поддается — считать здоровьем. Так я себя и настроил.
Мало ли, как я ощущал себя в тридцать или сорок лет. Того Антона Клобукова больше нет. Для нынешнего Антона Марковича совершенно нормально, просыпаясь утром, прислушиваться к собственному состоянию, часто наведываться в уборную по одной физиологической потребности и очень редко по другой, ощущать деревянность суставов и носить с собой таблеточницу с шестью отделениями.
Точно так же в рутину у меня вошли регулярные визиты к коллеге Шварцману, механику-ремонтнику моего поизносившегося тела. Всё это нормально, иначе не бывает.
Главная проблема, кардиологическая, насколько возможно купирована, а то, что мой мотор теперь работает в половину прежней силы, чихает и иногда грозится заглохнуть, так это такая модель, другой не будет. Прочие же, более мелкие докуки я решил презирать. Если какая-то обостряется, на то, во-первых, есть лекарства, а во-вторых, при моем нынешнем режиме работы, когда нет операций, я всегда могу остаться дома и полежать на диване с книгой.
Разумеется, в этом вопросе мне легче, чем другим, потому что как медик я имею доступ к лучшим специалистам, но главное средство защиты — психологическое. Здесь же ответ на вопрос: что? дает мне болезнь, зачем она?
Как всякое осложняющее жизнь событие, болезнь — испытание, схватка, в которой ты можешь или потерпеть поражение, или одержать победу. Я отказываюсь унывать и пугаться из-за своего хвороватого организма. Как писал Лев Толстой по другому поводу, «он пугает, а мне не страшно». В результате сегодня я чувствую себя физически слабее, но нравственно сильнее, чем раньше. Я подвергся агрессии со стороны судьбы и выстоял. Записываю это себе в плюс. Тут есть чем гордиться.
В болезненности старческого возраста содержится и еще одно благо. Оно звучит жутковато, а всё же на завершающем этапе это очень нужное и даже необходимое приобретение, без которого счастливая старость совершенно невозможна. Чем тяжелее и утомительнее ты болеешь, тем легче думать о том, что смерть уже близка.
Но об одном из главных призов старости, освобождении от страхов, я напишу ниже. Это интересный, многокомпонентный процесс, и мысль о смерти как об избавлении от болезней здесь лишь один из факторов.
3. Боль
Остановлюсь отдельно на частном проявлении болезней — болевом синдроме, потому что физическая боль отравляет существование хуже всего. Ее ведь не проигнорируешь. Кроме того у меня особенное отношение к боли. Она мой личный, пожизненный враг. Я ведь анестезиолог. Вся моя профессиональная деятельность направлена на то, чтобы укротить это чудовище, загнать его в клетку, не давать ему терзать людей.
Теперь у меня почти всё время где-то что-то ноет, стреляет, схватывает. И я осваиваюсь с этим состоянием, учусь его контролировать. Я укротитель и дрессировщик этого зверя.
Реакции достойна только острая боль — у меня есть фармацевтические и прочие медицинские способы с нею справляться. Но вредно и тошно всё время прибегать к помощи болеутолителей. Самые действенные из них притупляют работу мозга, а мне так о многом нужно размышлять, столько всего продумать и придумать. Поэтому я градирую синдром по стандартной десятичной шкале, и, если он удерживается в пределах пятерки («неприятные ощущения, не препятствующие функционированию»), считаю его чем-то вроде комариного жужжания, на шестерке делаю дистрагирующие манипуляции и особые дыхательные упражнения (им легко может научиться всякий). Лишь с семерки я начинаю применять анальгетики.
Боль порыкивает на меня, скалит клыки, иногда и покусывает, но знает свое место. Она не любит тех, кто ее не боится.
Вследствие того, что в моей жизни прочно поселился этот неприятный сосед, я внезапно получил доступ к наслаждению, о котором прежде даже не догадывался. Когда ты просыпаешься и чувствуешь, что у тебя ничего, совсем ничего и нигде не болит, сразу попадаешь на территорию физического счастья. В молодости ты его не испытывал, поскольку считал отсутствие боли данностью. Сейчас же я примерно половину времени определяю градус болевого синдрома — и бываю сосредоточен, а половину времени у меня ничего не болит, и я летаю, как на крыльях. Половина времени, отведенная на счастье, — мало ли?
4. Упадок сил
Я знаю, что в старости многие начинают ненавидеть свое изношенное тело. Женщины — за некрасивость, мужчины — за предательство. Оно постоянно тебя подводит своей бессильностью, и с каждым днем всё коварнее.
Мария Кондратьевна, к концу жизни уже почти не встававшая, однажды сказала мне: «В моем возрасте нужно относиться к своему телу, как к любимой, но одряхлевшей собаке. Да, она стала бестолкова, у нее лезет шерсть, надо постоянно возить ее к ветеринару, она может напустить лужу, от нее несет псиной. Но это твой верный друг, который когда-то скакал вокруг тебя щенком, кидался на обидчиков защитить тебя, принес тебе столько радости, веселья, любви. Нужно жалеть старенького барбоса, баловать, всё прощать. Ведь он скоро умрет, и ты переедешь в иной дом, заведешь себе щенка какой-то иной породы».
О том, как Мария Кондратьевна относилась к смерти, я напишу потом. У меня же выработалась собственная метода. С нудным спутником старения, постоянной физической усталостью и нежеланием что-либо делать, нужно вести себя как Штольц с Обломовым: тормошить, вытаскивать из халата и шлепанцев, увлекать интересными занятиями. По счастью, вся моя деятельность, как профессиональная, так и писательская (если можно назвать писателем того, кто всю жизнь пишет только для себя), не требует мышечной активности, только интеллектуальной. А функционирование интеллекта эволюционирует по иным законам, нежели функционирование мускулов и суставов. От многолетней интенсивной работы мыслительные способности только обостряются. Если в силу естественной деградации кровеносных сосудов мозга и наступает замедление, то проявляется это еще не в семьдесят лет. Существует теория, согласно которой усиленная эксплуатация когнитивно-аналитической и в особенности творческой потенции мозга, наоборот, притормаживает или даже вовсе останавливает старческие деменционные явления. Очень хотелось бы в это верить.
(Хотя если уж говорить о деменции, одном из самых зловещих пугал старости, скажу, что эта болезнь снаружи страшнее, чем изнутри. Она тяжела, прежде всего психологически, для близких, сам же больной особенно не страдает, постепенно погружаясь в полузабытье, а потом и в забытье, так что смерть приходит незаметно. У меня есть знакомая пара, в которой мужа поразила ранняя форма болезни Альцгеймера. Недавно я навещал их. Впечатления остались очень странные. Бедная Людмила Анатольевна беспрестанно плакала, рассказывала всякие душераздирающие истории о том, как быстро у Якова Семеновича угасает рассудок, а сам он в это время спокойно сидел на диване и с большим удовольствием листал детскую книжку с яркими картинками. Было совершенно непохоже, что он страдает. Я, будучи погружен в тематику моего трактата, подумал: а ведь это не так ужасно, как кажется. Самому Якову Семеновичу жить в таком состоянии осталось вряд ли долго, и никаких эмоций по поводу преждевременной кончины он не испытает, а для Людмилы Анатольевны утрата будет смягчена тем, что она больше не будет каждодневно мучиться, наблюдая за больным и постоянно тревожась, что он причинит себе какой-нибудь вред.)
Но вернусь от интеллектуальной дебилитации к физической. Когда я чувствую, что у меня нет сил куда-то идти или что-то делать, я даю телу отдых и заставляю работать голову. Устраиваюсь в кресле, кладу на пюпитр тетрадь и пишу (именно этим в настоящую минуту я и занимаюсь). Как говорили древние, если тело тянет к земле, воспаряй мыслью ввысь. Сегодня с утра тело меня очень тянет к земле, но я скриплю пером по бумаге и воспаряю.
5. Одиночество
Слава богу, тут не мой случай, но всё же я не могу не остановиться на этом тяжком испытании, с которым сталкиваются многие старые люди, в особенности в двадцатом веке, катастрофы которого оставили столько вдов и вдовцов, отняли столько сыновей и дочерей.
Как справляться с ощущением, что ты совсем один на свете, никому не нужный и не интересный в ту пору жизни, когда тебе стало так трудно жить?
Ответ прозвучит сурово, но в нем спасение.
Надо учиться находить в одиночестве утешение. Воспринимать его не как беду, а как свои доспехи. Быть черепахой, для которой дом — ее панцирь.
В свое время, не помышляя о том, что у меня когда-нибудь может появиться новая семья, я всерьез изучал науку одиночества у самого лучшего преподавателя этой дисциплины — Шопенгауэра. Вот кто был истинный гурман солитюда! В трактате «Другой путь» я подробно описал счастливую старость немецкого философа, не нуждавшегося ни в ком кроме самого себя. Это, конечно, очень прочное, очень уверенное, очень самодостаточное состояние.
В моей поэтической тетрадке выписано стихотворение молодого ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого очень любит Тина. Там есть строки, явно навеянные ахматовским «Как хорошо, что некого терять»:
Как хорошо, что некого винить,
Как хорошо, что ты никем не связан,
Как хорошо, что до смерти любить
Тебя никто на свете не обязан.
Да, в том, чтобы быть «никем не связанным», безусловно есть свои преимущества. Именно так и следует относиться к одиночеству.
6. Изоляция
Есть и другой вид одиночества — не личного, а общественного. Вернее сказать миноритарности, оторванности от меняющегося мира. Это ощущение испытывают в старости очень многие, что усугубляет депрессию.
У старика крепнет чувство, что общество двигается в какую-то ненужную, непонятную, неприятную сторону — отдаляется от тебя. Ты вроде как отстал от большинства и не больно хочешь пускаться вдогонку. Всё, что тебе нравится, выходит из моды.
Сужу по себе. Ну что это за жаркая дискуссия про физиков и лириков? Из-за чего ломать копья? И физики нужны, и лирики. Или вот нынешние интеллигентские дебаты про «плохого Сталина» и «хорошего Ленина», этот дурацкий лозунг «назад к Ленину». Чего там хорошего, в Ленине? И куда назад? В восемнадцатый год, в расстрельную камеру, где я сидел во время «красного террора»? А когда я начинаю вмешиваться в споры молодых коллег, они смотрят на меня с досадой: я стар, я «не в теме».
То же и с культурой. Та, которую я ценил и любил, сброшена с корабля современности. А та, что пришла ей на замену и вызывает восхищение у нового поколения, кажется мне дребеденью. Я, например, честно пытался проникнуться музыкальными вкусами нашей институтской молодежи. Они устроили для меня целый ликбез с использованием магнитофонных записей. Я старательно прослушал и ансамбль «Жуки», и ансамбль «Катящиеся камни». Форсированное использование барабанов и завывание электрических гитар меня утомили. Тексты показались постыдно примитивными. Ну что это за стихи: «Love, love me do. You know I love you». Как будто не было ни Бёрнса, ни Сто тридцатого сонета. И это постоянное косноязычное «йеа» да «уоу»!
Однако, памятуя ювеналову ворчливость, я вежливо кивал и соглашался, что это свежо и необычайно интересно.
Я думаю, что в старческом отрыве от современных вкусов и интересов есть великий и милосердный смысл. Нам ни в коем случае нельзя «задрав штаны бежать за комсомолом». Пусть бежит сам по себе, а мы останемся на месте, со своим собственным временем, своими пристрастиями и воспоминаниями, с дорогими сердцу покойниками. Нам не должно быть жалко уплывающего корабля. Мы с него уже сошли в своем порту, а следующий пункт плавания нам не нужен и не интересен. Он чужой, и мы там чужие.
Не жаль расставаться — вот правильное настроение последней стадии жизни. А если и жаль, то не очень.
«Это бес сильненький», как говорит не помню по какому поводу персонаж Алексея Толстого. Потеря значимости в собственных глазах и глазах окружающих особенно тяжело бьет по тем, кто достиг социального успеха, некоего высокого (или даже не очень высокого, но все же повышающего самооценку) положения.
Старея, мы выходим в тираж. Дело не только в социальном статусе. Многие из нас перестают быть важны и интересны даже собственным детям. Они любят родителей, но относятся к их суждениям без былой внимательности, в лучшем случае снисходительно.
Возможно ли пережить без горького чувства разжалование из хозяина жизни или хотя бы главы семьи в отставной козы барабанщика?
Для наглядности опять рассмотрю собственный пример. Вот я уже не светило анестезиологии, ко мне не записываются в очередь на операции, как прежде. Через два, три, много четыре года я перестану быть замдиректора и заведующим АЦ. Телефон замолчит, перестанут поступать приглашения. В глазах медицинского сообщества, да и шире, общества, я стану никто, прошлогодний снег.
Что ж, скажу я на это. Есть время разбрасывать камни и время собирать их. Есть возраст экспансии и возраст импансии, когда ты концентрируешься и сосредотачиваешься на себе. Не рассеиваешься, не разбрасываешься, а оглядываешься, осмысляешь, беседуешь с собой о самом главном: о том, как ты прожил свою жизнь и как будешь с нею расставаться. Зверь ведь тоже, чуя близкий конец, уходит из стаи. Вот ты, вот твое прошлое, вот твой конец.
Это не утрата статуса. Это замена иллюзорного статуса на подлинный: из человека, которого кто-то чем-то считал, ты превращаешься в самое себя, становишься равен себе. Великое превращение.
Речь о том, что мучает людей, обладающих чувством собственного достоинства, больше всего: о вынужденной зависимости от окружающих, которая неминуемо наступает, если ты заживаешься на свете. Об утрате самостоятельности и независимости — в повседневном, бытовом смысле.
Я знаю некоторое количество людей, из самых лучших, которые, тяжело болея в старости, совершили самоубийство, чтобы не становиться обузой для близких или чтобы не провести остаток дней в унижении. Один, академик N. (не буду писать фамилию, поскольку семья захотела скрыть факт суицида), оставил жене записку: «Я бы всё вытерпел, если бы была хоть какая-то надежда, а так зачем же попусту мучить себя и тебя?».
Это утверждение только кажется логичным и даже благородным. Оба мои родители самоубийцы, поэтому я с ранних лет много размышлял о феномене добровольной смерти. В конце концов я пришел к выводу, что самоубийство допустимо, когда оно проявление силы, и заслуживает осуждения, когда продиктовано слабостью. Если бы отец прошел мучительный путь умирания до естественного конца, у матери было бы время принять неминуемое и она не последовала бы за ним, а осталась бы жива, осталась бы со мной.
N. сделал проще для себя, но он жестоко оскорбил свою жену — тем, что решил за нее, обременяет он ее своей немощью или нет. На похоронах она больше всего мучилась именно этим. И просила нас, немногих посвященных, молчать о самоубийстве, потому что — ее слова — «мне это стыдно».
Самоубийство (за исключением каких-то героических деяний вроде самопожертвования) оправдано, наверное, лишь в одном случае. Если ты очень-очень стар, очень устал от жизни и сполна насытился ею, умом и телом ощущаешь, что пора и — самое важное — если твой уход никого больно не ранит. Это моя большая и, увы, неосуществимая мечта — дожить до поры, когда эвтаназия станет обычным делом и можно будет уходить с улыбкой и благодарностью, тихо прикрыв за собой дверь и выключив свет.
Однако вернусь от несбыточных мечтаний к проблеме «обузности».
Она решается одним из двух способов (а в идеале их сочетанием).
Точно так же, как для тебя уход за тем, кого ты любишь, не обуза, а радость, от которой ты ни за что не откажешься, будет с радостью заботиться о тебе и тот, кто тебя любит. Я вспоминаю мою Аду. Господи, если бы она пожила подольше, какое счастье было бы удерживать ее на этом свете, на котором она почти отсутствовала.
Это, конечно, самая лучшая перспектива немощной старости, к сожалению, выпадающая немногим счастливцам.
Но есть и другая, более доступная возможность. К старости нужно загодя готовиться. То, чего тебе не достанется по любви, можно приобрести за деньги: профессиональный уход, который оказывают не из жалости, а в качестве заработка. Даже в нашей стране плохой бесплатной медицины есть и сиделки, и домашние врачи, отлично знающие свое дело. Больной старик для них не обуза, а способ заработка.
Эта тема тесно связана со следующей.
У нас в стране приход старости почти всегда означает еще и резкое понижение уровня жизни — ополовинивание денежных доходов при увеличении расходов на поддержание слабнущего здоровья. Советская старость сплошь и рядом бедная, а бывает, что и нищая. С маленькой пенсией, часто без собственной квартиры, без возможности получать качественное медицинское обслуживание, поскольку к хорошим поликлиникам «прикреплены» только привилегированные и в хорошие больницы попадают либо по статусу, либо по блату, либо за взятку, для обычного пенсионера неподъемную.
Старость должна быть материально обеспеченной, это непременное условие. На Западе это в порядке вещей. К моменту выхода на пенсию средний человек выплачивает долги по ипотеке, имеет накопления, а то и инвестиции. У нас это намного, намного труднее. Но «труднее» не означает «невозможно».
Об этом я напишу в главе «Подготовка к старости».
Выше я перечислил утраты, которые несет с собой старость, и попытался найти для каждой потери замену или компенсацию. Но старея человек не только теряет, он еще и приобретает. Это тоже похоже на наступление зимы: да, она студеная и безвитаминная, зато красивая, и можно кататься на лыжах.
Люди мало задумываются о том, какие важные дары преподносит им жизнь в канун расставания. Максимум — радуются, что не нужно ходить на работу, можно сидеть на даче и уделять больше времени внукам (если есть дача и внуки).
А между тем десерт комплексного обеда под названием «жизнь» включает в себя несколько лакомств, мало кому доступных в более раннем возрасте.
Большинство из нас привыкли терзаться разнообразными страхами.
Человек боится, что с ним или его близкими случится беда. Боится потерпеть неудачу в своих начинаниях. Боится болезни. Боится войны и преступников. Боится потерять работу. Боится оказаться хуже других. Боится остаться один. Боится неразделенной любви. И так далее, и так далее. Вся наша жизнь — нагромождение и чередование страхов.
Отравляют существование и комплексы. Ах, меня не любят, меня не ценят, меня не уважают, надо мной смеются, я некрасив, я неудачник, я бездарен, я маленького роста, я толстый, я импотент, я трус, и прочая, и прочая.
В старости комплексы исчезают. Потому что окружающие не ждут от тебя ни свершений, ни красоты, ни подвигов, ни любовных доблестей. Это великое облегчение. Одна моя знакомая, которую я поздравлял с пятидесятилетним юбилеем, сказала: «Господи, я могу больше не краситься и не утаивать свой возраст, я больше не на витрине и не на прилавке, я — пожилая женщина. Какое счастье!». В мои семьдесят с хвостиком я имею гораздо больше поводов для радости, потому что перечень моих освобождений намного длинней.
Что самое лучшее в освобождении от ценников, которые навешивает на тебя общество? То, что ты приближаешься к самому себе. Не изображаешь то, чем ты хотел бы казаться, не носишь тесный, всюду давящий, не по тебе сшитый костюм, а переодеваешься в одежду, скроенную по твоей фигуре.
Но по порядку.
О страхах.
В молодые годы я тщетно воевал с ними. В зрелые разработал целую теорию, которую назвал «Эксплуатация страхов» (на эту тему у меня тоже есть трактат, а как же). Суть теории состояла в том, что подавлять в себе страхи или прикидываться, что ты их не испытываешь, — большая ошибка. С каждым из одолевающих тебя страхов надо работать. Проанализировать, установить параметры — и приручить. Страх — как огонь: если ты не умеешь с ним обращаться, он может тебя обжечь или спалить дотла, но если ты научился его контролировать и использовать себе во благо, им можно обогреться, можно приготовить на нем пищу — сделать его своим инструментом.
Вооружившись этим методом, я достиг определенных успехов. Научился использовать страх неудачи для мобилизации креативности и работоспособности; обратил страх за жену и сына в повышение градуса любви к ним; страх ошибиться на операции побудил меня усовершенствовать методологию подготовки анестезионной программы. Не буду перечислять все пункты своей «страхотерапии», это сейчас к делу не относится.
Потому что я достиг старости, и бо?льшая часть страхов сами собой ослабели или вовсе исчезли.
Одни утратили смысл, другие уже осуществились и чего теперь бояться? Третьи остались, но при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж пугающими.
Остановлюсь отдельно на самом главном из страхов — таком сильном, что на протяжении жизни у большинства он является основным мотиватором или блокатором множества решений и поступков.
Общеизвестно, что глубокие старики относятся к своей близкой смерти без страха. Многие даже с удовольствием обсуждают устройство собственных похорон, распределяют между родственниками и знакомыми, кому что достанется из имущества.
Таким образом освобождение от этого страха приходит само собой, без каких-либо специальных усилий. Видимо, дело в том, что инстинкт самосохранения, основа страха смерти, напрямую связан с запасом жизненной энергии. Смерти боится обретающаяся в тебе жизнь. Чем ее остается меньше, тем слабее страх. Тело готовится к смерти, как дерево к зиме. То же происходит и с душой или, если угодно, с психикой. Волны постепенно затухают, стремятся к прямой линии.
Ожидание ухода может быть не просто равнодушным, но и духоподъемным, даже праздничным. И я не имею в виду благостное состояние верующего человека, твердо знающего, что скоро он встретится с Господом. Я не религиозен, я ничего не знаю наверняка.
Но мне повезло общаться с поразительным человеком, Марией Кондратьевной, которая многому меня научила, на многое открыла глаза, а самый, может быть, важный урок преподала в канун смерти.
Мария Кондратьевна умирала в больничной палате. Последний наш разговор, перед тем как она потеряла сознание и больше в него уже не вернулась, происходил в отделении интенсивной терапии.
Лежа под капельницей, Мария Кондратьевна выглядела очень довольной.
Она хвасталась — вот самое точное слово.
— Я уже очень близко к двери, — говорила она, еле ворочая языком. — Ощущение, как в детстве: скоро дверь в гостиную откроется, а там нарядная елка и под нею подарки. За дверью, я знаю, обязательно будет что-то очень интересное. И совсем-совсем другое. Непохожее на
Ей-богу, я ощутил нечто вроде зависти. Будто пришел не с визитом соболезнования, а провожаю путешественницу, отправляющуюся в какую-то увле кательную поездку. В Париж, или в Венецию, или еще какое-то волшебное, закрытое для советского человека место.
Нечего бояться смерти, если прожил свою жизнь сполна. Скажи спасибо и иди себе.
У меня нет любопытства к посмертному миру, как у Марии Кондратьевны. Я вполне допускаю, что там ничего нет. Но и сон без сновидений — облегчение после очень долгого, изнурительного, а к полуночи уже и мучительного дня.
Кто-то умеет ощущать полноту жизни в каждое мгновение своего существования. Чаще всего это интеллектуально неразвитые, не склонные к рефлексиям люди, жующие отпущенное им время, как корова траву на лугу — блаженно щурясь от солнышка и чувствуя, как брюхо наполняется пищей, а вымя молоком.
Я всегда им завидовал. У меня так не получалось. Я жил не настоящим, а только прошлым и будущим: или воспоминаниями, или планами и надеждами. Конечно, память о вчерашнем дне очень важна, без нее ты никто и ничто, а без планирования завтрашнего дня никогда не добьешься ничего путного, но получается, что настоящий момент, который, собственно, и есть жизнь, при этом как-то не фиксируется, проходит мимо.
Мирра ругала меня за то, что я постоянно витаю в облаках и недостаточно радуюсь хорошей погоде, свободной минуте, миллиону маленьких подарков, которыми наполнена жизнь. У Мирры был этот дар — ощущать joie de vivre. От Тины мне тоже неоднократно доставалось за «замороженность» и «заторможенность». У меня вообще сложилось впечатление, что женщины умеют чувствовать жизнь сильнее и интенсивнее.
А теперь я понимаю, что проблема не только в «мозговом» устройстве моей личности. Мне, как ни странно это прозвучит, мешали наслаждаться жизнью молодость и здоровье.
Старость научила ценить всякую минуту, когда ничего не болит, не тянет, не давит. Эта простая истина, сформулированная еще эпикурейцами («счастье есть отсутствие боли»), осознана мной только теперь. Жизнь — прекрасная роза, а боль, недомогание, дурнота — не более чем шипы на розе.
Никогда, даже в детстве, я не испытывал такого острого чувства присутствия в этом мире. По десять раз на дню я замираю от торжественной красоты неба — безо всякого Аустерлица. Цвета, линии, звуки, запахи, которые дарит природа, пьянят меня и кружат голову.
У этого, конечно, есть элементарное объяснение: по-настоящему мы ценим лишь то, что у нас могут в любой момент отобрать.
Старость переводит человека в очень хрупкое состояние. Из оловянной кружки ты превращаешься в бокал тонкого стекла, который даже от несильного удара разлетится вдребезги, зато у него прозрачные и тонкие стенки. Быть бокалом, ей-богу, интереснее. Просто не нужно ждать от бокала прочности.
Меняется отношение к близким и отношения с ними. Эта связь тоже становится источником постоянного, безоблачного счастья. Ты радуешься просто тому, что они есть и что они рядом.
У меня двойное счастье — жена и сын. Я совершенно разучился на них сердиться, что раньше случалось. Мою любовь ничто не омрачает.
В основе этого благодушия, если разбираться, конечно, эгоизм, и довольно стыдный. Я твердо знаю, что, поскольку оба они здоровы и нет войны, я умру раньше. Они не ранят меня своим уходом. Страх, что с кем-то из них случится беда, а я останусь, покинул меня. Ну и во-вторых — это даже главное — я знаю, что без меня они не пропадут. Тина сильная, и у нее есть Марк, а что до него, то дети психологически выносливы.
Семья — настолько важная сторона и настолько огромная радость моей жизни, что мне хочется на этой теме остановиться поподробнее.
Тина.
Я теперь просыпаюсь очень рано, на рассвете и часами просто смотрю на нее спящую. Это абсолютное счастье, с которого начинается мой день.
Я умру, а Тина будет жить дальше, говорю я себе. Погорюет и выправится. Как это прекрасно! Иногда я воображаю себе, что меня уже нет, она живет с каким-то другим мужчиной, который ее любит и с которым она счастлива. Меня это не ранит и не пугает, наоборот. Я знаю, что она меня не забудет, и мне этого довольно.
Лучше, конечно, иметь спутницей ровесницу, но быть женатым на той, кто намного тебя моложе, — в этом тоже есть огромный плюс.
Мне вспоминается недавний разговор с Сергеем Илларионовичем — на банкете по поводу его семидесятипятилетия. В конце вечера мы сидели вдвоем. Он был несколько нетрезв и разоткровенничался, завел разговор о личном. Стал рассказывать о своей жене, Гаянэ Левоновне, с которой прожил более полувека душа в душу, очень счастливо. С.И. сказал, что теперь, в старости, они оба расплачиваются за это счастье постоянным страхом потерять друг друга. По ночам он просыпается и в ужасе прислушивается — дышит Гаянэ или нет. Стоит ему поморщиться от какого-нибудь колотья в боку или желудочной колики, и жена панически кричит: «Что? Что? Тебе плохо?». Он сказал, что не знает, какой исход страшнее: если раньше умрет она или если раньше умрет он, обречет ее на муку одиночества. «И ведь то или это случится скоро, совсем скоро, — потерянно говорил С.И. — Эта мысль постоянно меня терзает».
У меня с возрастом развилась дурная привычка — давать советы, когда меня о них не просят. Тина меня за это ругает. Но у С.И. в глазах стояли слезы, и я не удержался.
Я поделился с ним своим открытием. Этот страх существует не для того, чтобы отравлять жизнь, а для того, чтобы обострять ощущение великого счастья, которое тебе досталось и которое является большой редкостью. Я сказал: «Конечно, мы не бабочки, порхающие с цветка на цветок, не догадываясь о краткости своего века. Мы знаем: всё заканчивается. Но луг цветет, солнце светит, воздух полон ароматами — так не портите же себе это блаженство».
Не уверен, что помог ему. Быть безмятежным в старости — это спорт, требующий долгих тренировок.
Теперь про сына.
Меня в моем нынешнем состоянии ужасно удивляет, как это люди раздражаются на собственных детей, даже злятся на них. Это у родителей происходит по молодости и по глупости.
Для двенадцатилетнего мальчика я очень старый отец и поэтому отношусь к нему скорее как дедушка. Что бы Марик ни натворил, я испытываю только умиление и сочувствие. Думаю: через сколько испытаний ему еще предстоит пройти, чтобы научиться взрослости. Тина корит меня тем, что я порчу и балую ребенка, что я слишком с ним мягок. Наверное. Но какое же счастье наблюдать за тем, как мальчик развивается, начинает шевелить мозгами, обзаводиться собственными суждениями. Я не пугаю себя злосчастьями, которые может обрушить на него жизнь. Я представляю себе только хорошее. С каждым годом он будет делаться всё умнее, всё лучше, всё интереснее. Он войдет в зрелый возраст, его станут называть по отчеству, и всякий раз, когда кто-то скажет «Марк Антонович», это будет памятью обо мне.
Вот еще один парадокс.
В молодости ты всё делаешь быстро: двигаешься, работаешь, принимаешь решения, ухватываешь новые идеи. При этом еще и постоянно торопишься, а времени всё равно недостаточно. Во всяком случае мне его всегда не хватало.
Теперь, в семьдесят один год, после инфаркта, я очень замедлился. Всё занимает гораздо больше времени, чем прежде. Просто дойти из кабинета до кухни — путешествие. А уж если не работает лифт (обычная история), то подняться на шестой этаж — целая одиссея с передышками после каждого пролета. Последний раз на покорение сей Джомолунгмы ушло 22 минуты, и думаю, что впереди меня ждут новые рекорды.
И что же? Никогда еще я не ощущал себя таким богачом по части свободного времени. Можно не экономить его, не выгадывать, не скряжничать, не жертвовать приятным ради необходимого.
Раньше я был на побегушках у времени, оно отдавало мне приказы. Теперь же это я им распоряжаюсь и могу смело позволять себе всякие расточительства.
Причин две. Во-первых, мой день почти на четверть удлинился — я теперь сплю часов на пять, а то на шесть меньше, чем в молодости. Во-вторых, я свободен от операций, которые вместе с подготовкой съедали львиную долю моего времени — ведь в сложных случаях (а у меня были только такие) я и дома просчитывал, прикидывал, корректировал будущие действия. А через некоторое время я вообще уйду на пенсию, и тогда стану просто миллионером, потому что год состоит из тридцати миллионов секунд и каждой можно распорядиться по-своему.
Это происходит не только со мной, это происходит со всеми стариками. Нам достается самое главное богатство жизни, которым не владеет никакой Рокфеллер — свободное время. Беда в том, что большинство совершенно не умеет использовать этот ресурс с толком и удовольствием.
А я сумею. Потому что я подготовился.
Эта глава почти целиком состоит из очевидностей и тривиальностей, а некоторые вещи я уже писал, но теперь несколько изменю ракурс.
Общая идея тоже Америки не открывает: к любому важному делу нужно серьезно готовиться, иначе у тебя ничего не получится.
Вот так следует относиться и к своей старости. Чтобы в конце получилось «долго и счастливо». Или хотя бы просто «счастливо».
В программе, которую следует предварительно осуществить, шесть пунктов. Каждый обязателен.
Есть два способа провести старость: вдвоем или в одиночку. Я уже затрагивал эту тему, но теперь вернусь к ней, ибо и первый способ, и второй требуют основательной подготовки. Оба имеют свои плюсы и свои минусы.
Вдвоем быть теплее и радостней, но и страшнее. Близясь же к концу жизни в одиночестве, человек бесстрашен, но круг его радостей намного уже. Обычно выбирать не приходится, один ты или нет. За нас это решает судьба.
Но если вас двое, нельзя делать ошибку, которую, увы, совершают очень многие. Не следует из-за вялости или бытовых сложностей оставаться с женой или мужем, когда нет настоящей любви и понимания. То, с чем кое-как можно было мириться в сильные годы, на закате жизни иссушает и вытаптывает душу. Как много я вижу вокруг старых пар, которые шипят и злобятся друг на друга! И каждый сам по себе, и объединяет только одно — пресловутая жилплощадь.
Лучше уйти и научиться одиночеству.
Моя жизнь сложилась так, что я рано овдовел, был уверен, что проведу старость уединенно и стал заранее к этому готовиться. У меня даже начало получаться, и я находил в этом повод для своеобразной гордости. Но на пороге шестидесятилетия жизнь вдруг преподнесла мне сказочный дар — свела с Тиной. И, конечно, это вывело меня на совсем иную высоту существования. Я будто попал из немого черно-белого кино на широкоэкранную цветную картину со стереозвуком и объемным изображением (недавно я видел такую на ВДНХ).
Итак: нужно или быть уверенным в спутнике, или научиться самодостаточности.
С одной оговоркой. Когда первый из спутников уйдет, второму все равно придется постигать науку одиночества. О том, что и в нем есть свои утешения, я уже писал. Такая старость уже не будет счастливой, но по крайней мере она может не быть жалкой.
Опять изреку банальность. Нельзя быть счастливым в старости, если твои дети несчастны или, хуже того, скверны.
Воспитывая детей, ты вкладываешься в собственное будущее. Это звучит цинично, я знаю, но в самых важных вещах следует обходиться без самообманов. Дети вырастают и становятся источником либо радости, либо горя. Они или утешают, или отравляют старость родителей.
Разумеется, что-то здесь зависит не от нас, а от внешних обстоятельств, но что-то от нас и только от нас. Одной любви мало, требуются ум и предвидение. Ты выращиваешь деревце, ставишь подпорки, стараясь, чтобы ствол получился прямым, а листва сочной — и потом надеешься, что не наступит засуха и не ударит молния.
Если дети выросли хорошими, это становится в старости мощным источником счастья. Я ценю его еще больше, чем другие люди, потому что потерял старшего сына и дочь, а потом — несказанное счастье — обрел Марика. И мне даже не нужно ждать, чтобы узнать, каким он вырастет — успешным или нет. Я этого не увижу. Мне совершенно достаточно, что мой мальчик сегодня такой, какой он есть. Я и тут перехитрил судьбу.
Я обещал развить сей прозаический, скучный в своей очевидности тезис и сейчас сделаю это.
Конечно, в советских реалиях предписание позаботиться о благополучной старости звучит несколько утопично. Однако нужно отдать должное социализму. Совсем уж нищей старость в СССР не является. На пенсию худо-бедно просуществовать можно, медицинское обеспечение — уж какое ни есть — бесплатное. Это очень скудный уровень жизни и до унизительности убогий уровень здравоохранения — но лишь по сравнению с Европой. Людям же свойственно сравнивать свою жизнь не с другими странами (которые мало кто видел), а с жизнью вокруг и с тем, что было вчера. Все вокруг живут небогато, а вчера было гораздо хуже, чем сегодня. Старые люди отлично помнят времена, когда приходилось и голодать.
Но одной пенсии для достойной жизни недостаточно — если человек не принадлежит к номенклатуре, пользующейся привилегиями. В пожилые годы нужно непременно быть богаче, свободнее в средствах, чем в молодости — это такой костыль старости.
Здесь не обойтись без основательных приготовлений. Нужно быть муравьем, а не стрекозой, нужно понимать, что лето красное продлится не вечно. Взрослый, умственно зрелый человек обязан быть ответственным. На современном Западе всякий нормальный член общества планирует свое финансовое будущее или, выражаясь попросту, копит деньги на старость. Пожилые люди в Европе и Америке, как правило, состоятельнее молодежи: ипотека выплачена, дети выращены, кроме пенсии имеются акции или вклады, приносящие процент. В Советском Союзе возможности «инвестирования в старость» очень ограничены, и всё же они имеются.
Не буду ставить в пример себя. Мне повезло и с профессией, и с карьерой. Но вот мой водитель Трофимов, чрезвычайно обстоятельный мужчина пятидесяти пяти лет. Он большой говорун и резонер, любит поразглагольствовать о своей жизни, поэтому я знаю о ней (признаюсь честно) больше, чем хотел бы. Но самодовольный рассказ о том, как Трофимов готовится к пенсии, я выслушал очень внимательно — и проникся к Николаю Ивановичу почтением.
«Я в день рожденья, когда мне стукнуло сорок пять, налакался до хрюка, в последний раз, — сказал Трофимов, — вроде как попрощался с несолидным возрастом и вступил в солидный. Решил всё: больше не пью, не курю и начинаю откладывать с каждой получки по пятерке — ну, тогда, на старые деньги, это по полста было. И два раза в месяц, второго и семнадцатого, как штык, пятерочку на сберкнижку. Жену тоже заставил. У нее, правда, зарплата такая, что только трёха получается. Теперь у меня на книжке тыща двести, у ней — семьсот, до пенсии мне еще пять лет, а Люська из своей поликлиники вообще уходить не собирается. Всегда без очереди к хорошему врачу попадем. Трофимовы в старости у сына с дочкой на хлеб-лекарства клянчить не будут. Еще сами им одолжим, если чего».
С точки зрения советской морали, эта сентенция является жутким мещанством, а на самом деле она — проявление ответственности. И кстати говоря мещанство, с легкой руки Максима Горького почитающееся у нас чуть ли не худшим из грехов, на самом деле представляет собой естественное стремление человека к обустройству достойной частной жизни.
Можно быть каким угодно романтиком в своих мыслях и духовных интересах, но в планировании старости следует быть мещанином.
Опять трюизм: в старости нужно по возможности сохранять приличную физическую форму, а это тоже требует длительной и упорной подготовки.
У всех разные генетические данные, у многих на протяжении жизни появляются осложнения со здоровьем — всё это так. Но каждый может максимально помочь своему организму укрепиться в преддверии старения. Тело ведь похоже на машину, которая с годами всё больше изнашивается, а стало быть нуждается в постоянном техконтроле и техобслуживании. Нельзя этими процедурами пренебрегать, это первое правило.
Второе: хорошее физическое состояние с определенного возраста перестает быть данностью и требует всё большей работы. Нужно тренировать сердце, разрабатывать суставы, не позволять мышцам атрофироваться. До инфаркта я, к сожалению, пренебрегал упражнениями, жалел тратить время. А если бы я лет с пятидесяти ввел себе в рутину каждодневно по часу тратить на дрессировку тела, оно меня не подвело бы. Сейчас я дважды в день по тридцать минут выполняю комплексы упражнений. Даже в сидячем или лежачем положении, если неважно себя чувствую.
Третье — диета. Не хочешь, чтобы твоя машина ломалась — не заправляй ее некачественным топливом.
И, думаю, достаточно об этом. Тут всё ясно.
Но вот важнейшее и даже абсолютно необходимое условие, с которым намного сложнее, да и задумываются об этом обычно меньше, чем о физическом здоровье.
Сейчас я скажу вещь, с которой мало кто согласится, да и сам я в более молодом возрасте счел бы ее нелепой.
Почему?
Потому что смысл существования яблока — в том, чтобы стать плодом.
Потому что спектакль, в котором мы участвуем, по пьесе завершается сценой, где ты состарился. Спросите любого драматурга, какая часть его произведения самая значительная, и вы услышите в ответ: «Конечно, финал». Никто не скажет: «первый акт» или «такое-то явление в середине второго действия». Предшествующий сюжет — не более чем подводка к финалу, кропотливая его подготовка.
Старость может быть счастливой, только если она не отравлена угрызениями совести. На исходе жизни нужно чувствовать себя хорошим, уж во всяком случае не подлецом. Это не такое простое условие для советского человека. В школе всех нас учили беречь честь смолоду, а потом вытаптывали ее коваными сапогами. Каждому из нас в какие-то моменты приходилось выбирать между выживанием и подлостью. И выжили те, кто сподличал. Даже если не совершили никакой прямой гнусности, то молча поднимали руку, или отводили глаза, или просто промолчали.
Но необязательно быть героем без страха и упрека. Достаточно просто не запачкаться кровью и предательством.
Я, увы, не избежал этой доли. Много лет на моей совести тяжелым грузом лежала история с Иннокентием Ивановичем. Я знал, что буду терзаться ею до смертного часа. В пятьдесят пятом, когда Бах вдруг воскрес и я понял, что он не держит на меня зла, засиял луч надежды — и тут же погас. Потому что Иннокентий Иванович снова исчез и больше уже не появлялся. Я решил, что этот мягкий, добрый человек не стал бросать мне в лицо обвинений, но простить не простил. Так я и проживу до конца с клеймом предательства. И вот теперь я узнал, что прощение было получено, что мой грех отпущен. Это неимоверное, несказанное освобождение. Теперь, только теперь я получил шанс на старость, которая будет по-настоящему счастливой. Ныне отпущаеши! Я чист, я свободен!
Хорошо, это частный случай. Но другие люди, прошедшие через свои собственные нравственные экзамены и тоже провалившие их, могут оказаться менее счастливы. И возникает вопрос, очень важный для всякого достойного человека: если твоя совесть чем-то замарана, можно ли к старости ее отчистить?
Я много думал об этом после того ужасного октябрьского дня 1937 года. Знал, что мне нет прощения, что я сам себя никогда не прощу, но в то же время понимал: каким-то образом я всё же должен выскрести из себя скверну.
И я пришел к формуле, которая мне очень помогла и несомненно поможет всем, кто, вслед за пушкинским Борисом твердит себе: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».
Вот эта формула: то, что нельзя исправить, можно искупить. Поступками противоположного свойства. Я погубил человека, но я спасу сто, тысячу других, пообещал я себе.
Слава богу, моя профессия давала такую возможность. Я старался, я очень старался. Я никогда не отказывался от участия в операциях, предпочитая самые тяжелые, даже если плохо себя чувствовал или валился с ног от усталости. И я спас не тысячу, а несколько тысяч людей.
Конечно, арифметика тут не работает, и вину за одну погубленную жизнь не отмоешь спасением даже миллиона других жизней. Реабилитации не будет, но будет смягчение приговора, который ты сам себе вынес. Это немало.
А еще нужно заранее придумать и лелеять мечту: нечто такое, что ты сможешь позволить себе только в старости. Этакий десерт жизни.
Готовить такое блюдо — а еще лучше несколько блюд — тоже следует заранее.
Я составил целую программу, которую намерен осуществить как только уйду из начальников и наконец стану неограниченным монархом своего времени. Программа называется «Счастливая старость». Сейчас я с большим удовольствием изложу все ее пункты.
Итак, я решил официально считать себя стариком с того момента, когда перейду из заведующих Анестезиологического Центра в консультанты и перестану бывать на работе с девяти до половины шестого. Это произойдет как только мы завершим исследования моей новой методики — в оптимальном случае через два с половиной года. Директор обещал, что мое изобретение назовут «Аппарат Клобукова». Это приятно — обзавестись прижизненным памятником, но еще приятней мне мечтать о грядущем существовании.
О, у меня грандиозные планы.
Во-первых, я осуществлю мечту всей моей жизни: заведу собаку . В детстве у меня ее не было — в те времена собак в городских квартирах не держали. Потом вечно не было на это времени. Куплю рыженького щенка, эрдель-терьера. Назову Тошей. Я очень рано просыпаюсь, мы с ним будем гулять вдвоем. Антон большой и Антон маленький. Старые люди, если они обладают ответственностью, не позволяют себе заводить щенка, потому что это жестоко: он тебя переживет, и что с ним потом будет? А мне хорошо. Тоша останется с Тиной и Мариком. Им с собакой тоже будет легче пережить мою смерть, пес останется частицей меня, да и звать его будут так же. Тина, забывшись, позовет меня: «Антон!» — и вместо печальной тишины в квартире раздастся быстрый стук лап.
Во-вторых, я наконец пройду курс художественной фотографии и научусь делать красивые снимки. Ведь с двадцати лет щелкаю затвором, а так толком снимать и не научился. Куплю хорошую камеру. Буду останавливать мгновения, которые прекрасны.
В-третьих, куплю автомобиль . Служебной машины у меня уже не будет, но я воспользуюсь академическими привилегиями. При выходе на пенсию члену АМН предоставляют дачу, если ее раньше не было, и лимит на приобретение «волги», членкору на выбор — или дачу, или автомобиль «москвич».
Дача нам не нужна, мы не любители буколики, а вот машина — дело иное. Оба научимся водить. Уверен, Тине это очень понравится. Будем совершать дальние поездки, устраивать пикники в красивых местах. На заднем сиденье Марик возится с Тошей, Тина призывает их к порядку. Плохо ли?
Буду много времени проводить с Мариком. Я придумал общее дело, которое увлечет нас обоих, объединит его любовь к истории и мою к исследовательской работе. Мы будем вдвоем писать книгу, а перед тем неспешно и любовно собирать материал.
Мне всегда хотелось, когда будет время и досуг, терпеливо и бережно, по кусочкам, восстановить биографию какого-нибудь человека, который прожил жизнь с максимальной пользой для себя и мира. Думаю, могло бы получиться полезное и поучительное чтение для всякого, кто тоже хочет провести свой век осмысленно. Я уже решил, что героиней станет великая княгиня Елена Павловна.
Пусть Марик с раннего возраста научится излагать мысли и факты на бумаге, потом это ему очень пригодится. А для меня будет огромным счастьем ездить с сыном по историческим местам, вместе ходить в библиотеки и архивы, обсуждать, спорить. Главная благодетельница русской истории совершит еще одно благодеяние.
Когда я зачитал свою программу Тине, она потребовала добавить еще три пункта, что я с удовольствием и делаю.
Мы начнем вместе готовить. Не по воскресеньям, а каждый день, потому что еда должна быть не топливозаправкой, а праздником и удовольствием. Руководить будет Тина, я при ней буду поваренком.
Еще она сказала: « Ты выучишь древнегреческий , чтобы мне было о чем с тобой разговаривать». Учить меня будет она. Хочу, очень хочу!
А больше всего мне понравилась идея научиться массажу . «Перестанешь страдать по поводу мужских обязанностей, — сказала Тина. — У тебя волшебные руки, и могу тебе теперь честно сказать, что больше всего в постели мне нравилось то, что до и после, а не сам процесс». Эта перспектива приводит меня в такое радостное волнение, что я начинаю думать, не возобновятся ли и «мужские обязанности».
Вот какой будет моя старость. Не знаю, сколько она продлится — десять лет? Да хоть бы и пять. Это ужасно много, если быть счастливым каждый день целых пять лет: тысяча восемьсот дней счастья! У меня за все предшествующие семьдесят лет дай бог наберется одна десятая такого богатства.
Ну а потом опустится занавес. И меня будет ждать путь либо в «вечный дом свой», если прав Иннокентий Иванович, либо в иную вселенную, если права Мария Кондратьевна, либо в несуществование, и это совсем не страшно, ибо что же страшиться того, что не существует?
Выбора нет.
МНОГОНАДО.net
9 июля 2023